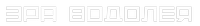Давно не писал литературных рецензий, а тут что-то пробило. Прямо в зале ожидания аэропорта Астаны. И о ком? О Венедикте Ерофееве. Что я, сегодня, на изломе весны могу написать нового про Венедикта Ерофеева. Да ничего нового про Венедикта Ерофеева писать и не буду. Просто в очередной – пятнадцатый или двадцатый раз увидел его "Москва-Петушки" на прилавке и купил. И начал читать, почти выученное местами наизусть и ржал, как полоумный к удивлению тонкоглазых и толстобедрых казахских буфетчиц, и сердце болело, щемило, и потрясающая ирония, ирония почти приговоренного к стебу Самой Судьбой вынуждала сердце биться иначе. И немыслимая, почти разрывающая энергетика, которая наполнила душу тут же заставила открыть ноутбук и набивать, набивать новые, немыслимые строки какого-то своего, простого и примитивного рассказа. А потом опять оторваться от своей нетленки и читать, читать его иронию, его стеб, его одиночество и боль...
Венедикт Ерофеев... Почему-то тебя хочется жалеть, и плакать вместе с тобой, и бухать сутки напролет на обочине твоего творческого пути, и болеть, и при этом ржать, ржать как упоенный мечтой праведник над всем тем серым, унылым, почти обреченным существованием, что приходится влачить в этом бренном, трехмерном, телесном пространстве и изнывать от тоски...
Я вдруг вспомнил, что среди всех моих друзей, подруг моих, знакомых, однокурсниц и однокурсников ведь было всего три-шесть, может быть, семь человек, кто тащился и смаковал Ерофеева так же, как я. Кто нырял в эту книгу и плыл, плыл в ее незащищенной гениальности. А остальные? Что же говорили остальные? В лучшем случае они говорили "Забавно..."
"Забавно", – вот что говорили иной раз некоторые про "Москва-Петушки" и в этом "Забавно" было больше унижения и оскорбления, думается мне, для тебя, Венечка, чем если бы они сказали "А нам не нравится". Но ведь были и те, кто говорил: "Ничего особенного"... Кто говорил: "Так себе". И даже те, кто говорил: "Подумаешь, чего тут такого?", – такие же тоже были.
А я читал, читал в сотый раз места про Модеста Мусоргского и Римского-Корсакова, про негу, про Курский вокзал и почти ржал на казахской территории. Но ржал совсем не так, как мог бы ржать над тем же Булгаковым или Ильфом и Петровым. Я ржал иначе, потому что знал, что в конце "Москва-Петушки" есть эта заклятая буква Ю, которая врежется в его горло как сейчас в мое сердце врезается тоска по какой-то утраченной мечте и тянет, тянет, тянет...
– А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу "Хованщина"? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: "Вставай! Иди умойся, и садись дописывать свою божественную оперу "Хованщина".
И вот они сидят: Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него – Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, – пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает... *