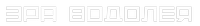Пахло. Пахло словно ветром
уносились вдаль тюльпаны,
у которых вдалеке
было невидаль туманов,
а они, швыряясь в море,
что есть сил летели прочь,
и гоняли хороводы,
чтобы беглецам помочь.
Ты стояла, холодела,
не звала, но этот стон,
что поил твое стремленье,
оставался пуст и гол.
Не держались
ни за руки, ни за сердце, ни за трос,
пропечалил с дымной трубкой
полустриженный матрос.
Третий день не шла рыбалка,
расплескала зыбкий сон
полупьяная русалка,
полуголый разговор,
полуобнаженный месяц,
полу смелая волна,
и не сгинет, хоть повесься,
древнерусская тоска.
Эти пагубные мысли,
закрома кипучих зол,
ты не капли не осмыслишь,
не упав с трех тысяч гор.
А потом долги и шлюхи,
словно смертный приговор,
тени ползали на брюхе…
тени живы до сих пор.
Это призрачное море,
эта зябь и эта явь,
мы с тобой не пили горе,
разве что, на брудершафт.
Осьминоги подавились
недоношенной икрой –
мы, с итоге, поженились…
Пой, моя, родная, пой…
уносились вдаль тюльпаны,
у которых вдалеке
было невидаль туманов,
а они, швыряясь в море,
что есть сил летели прочь,
и гоняли хороводы,
чтобы беглецам помочь.
Ты стояла, холодела,
не звала, но этот стон,
что поил твое стремленье,
оставался пуст и гол.
Не держались
ни за руки, ни за сердце, ни за трос,
пропечалил с дымной трубкой
полустриженный матрос.
Третий день не шла рыбалка,
расплескала зыбкий сон
полупьяная русалка,
полуголый разговор,
полуобнаженный месяц,
полу смелая волна,
и не сгинет, хоть повесься,
древнерусская тоска.
Эти пагубные мысли,
закрома кипучих зол,
ты не капли не осмыслишь,
не упав с трех тысяч гор.
А потом долги и шлюхи,
словно смертный приговор,
тени ползали на брюхе…
тени живы до сих пор.
Это призрачное море,
эта зябь и эта явь,
мы с тобой не пили горе,
разве что, на брудершафт.
Осьминоги подавились
недоношенной икрой –
мы, с итоге, поженились…
Пой, моя, родная, пой…