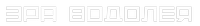Знающему далеко до любящего,
Любящему далеко до радующегося.
Конфуций.
– Простите, Вы зачем презерватив на голову надели? – с этого полу риторического вопроса профессор Тредиаковский начал беседу с новеньким…
… Владимир Вольфович Тредиаковский, главный врач психиатрической больницы имени Зощенко, делает один раз в неделю, чаще по пятницам, обход больных собственноручно. За это время новенькие появляются; останавливается, внимательно слушает, задает вопросы. Выполняет свою работу: серьезно, заинтересованно. Рядом медбрат – в отдельную книжечку реплики Владимира Вольфовича записывает. Поодаль еще двое, покрепче первого будут, и ничего не записывают. Если Вы хотя бы раз посещали психиатрическую больницу – по предназначению, по необходимости или по недоразумению, Владимира Вольфовича вы, непременно, видели. На нем еще чепчик врачебный – отбелен, отутюжен и всегда задом наперед. Загляденье.
Новеньких в эту пятницу было мало: за полчаса справившись почти со всеми, лечащая миссия подошла к палате с последним пациентом.
– Нехоров Петр Андреевич, 42 лет, работник завода "Электровыпрямитель”, слесарь – наладчик. Поступил сегодня ночью, поэтому ничего определенного сказать пока нельзя. При поступлении … его привели друзья … сказал, что собирается изнасиловать галактику, для чего требовал в магазине резиновых изделий, где продают покрышки, чехлы, надувные лодки, презерватив, способный выдержать подобную нагрузку. Владимир Вольфович, я думаю здесь какое – то помешательство на сексуальной почве… Или Фрейда начитался… – так докладывал из – за плеча главного врача санитар на побегушках, в то время как глаза Владимира Вольфовича не мигая, можно сказать завороженно, уставились в серо – зеленые зрачки самого больного – Петра Андреевича, 42 лет, работника завода "Электоровыпрямитель”.
В позе лотоса, орлино возвысив голову, сидел больной на подушке, перебирая четки, невесть откуда появившиеся, т.к., по распоряжению, все вещи у больных должны были при поступлении изыматься. Пижама оказалась несколько великовата, отчего внешний вид ламы сквозил аристократизмом вытрезвителя. Рот, нос, уши – внешность – вполне соответствовали стандарту средней интеллигенции и ничем примечательным не выделялись. Другая деталь, немного неправильно употребленная по назначению, выбивалась нз общей картины, а еще полное отсутствие улыбки нагнетало манекенный покой на общее выражение медитативной нэцке.
– Простите, Вы зачем презерватив на голову надели? – с этого полу риторического вопроса профессор Тредиаковский начал беседу с новеньким.
– Это не голова, это мой детородный орган…
Не стоило бы даже и уточнять, что за долгие годы работы в учреждениях, подобных описываемому, уважаемый Владимир Вольфович привык к перетасовкам фактов и почище этого. Замещение головой детородного органа – такого не было, но чем хуже заявление недавно скончавшейся пациентки… Владимир Вольфович постоянно забывал ее фамилию … которая, свято веря, что мухи – падшие ангелы, придавала их всеми мыслимыми и немыслимыми способами гиене огненной, при чем устраивала эту гиену прямо в палате, трижды прожигая простыни. Откуда она брала пламень изнечижающий, спички, или еще чего – не известно и по сей день. Или Арсений, дедушка из четырнадцатой, помочившись в кашу, заявил, что он – буревестник и хочет дождаться бури. Дедушку оставили дожидаться. Терпения бедного старика надолго не хватило и он запустил всем этим деликатесом, вместе с фарфоровой твердью, в санитара. На вопрос заведующего ”Почему?” властитель стихий хладнокровно сморкаясь в подол пижамы, ответил: " А я при чем? Планета с орбиты сошла, хрен знает, куда полетела”. Такая порода людей – это не больные. Это нагноение сплошной логики и здравого смысла, по всем законам медицины непригодное для существования.
– И кто же та блаженная, которую вы оберегаете от беременности? Если не секрет, разумеется…
Санитар – пошляк невесть чему улыбнулся. Вчера этот ненормальный показался ему нормальнее.
– Никого! Себя я хочу оградить от нежелательного появления первенца. Детородный – для деторождения. Матка.
Презерватив был обычный – серый, растянувшись, стал бледнее. Волосы рыжеватыми загибульками потели под плотным наконечником. "Кто же тебя так "– санитар был пошл до корней волос, отчего, пожалуй, и сделался округло лыс к тридцати годам.
– Откуда он у Вас? Точнее, она. Матка.
– Догулялся… – ни выражение лица, ни безулыбочность, ни хладнокровие восточного мудреца не исказили своей маникенности. Зато тон. Даже Владимир Вольфович, лишенный начисто какого – либо фольклорного дарования, отметил бы, будь он поменьше занят наблюдением зрачков больного, невысказанную муку, мучительно пронзившую признание. – Забеременел.
– Если мне не изменяет память. – память профессору никогда не изменяла: ”если мне не изменяет память” он говорил для того только, чтобы пококетничать. – Если мне не изменяет память, место для зародыша у женщин находиться в другом месте.
– А Вы думаете, что я женщина? Кто первый скажет, что я – женщина, пусть попробует со мной переспать – в рыло схлопочет.
– А где это находиться у мужчин ?
– Где, где… в голове. Растет. Чувствую. Говорил ему, нельзя так. Доигрались.
– Ему – кому? Кто отец ребенка ?
– Да все они… поочереди. Ницше, Шопенгаузр, Эпикур – потный развратник. Я думаю, что главная зараза от Достоевского… Но не знаю, не знаю… Сколько их было.
Если бы профессор… Если бы Владимир Вольфович не был лишен… Самым интересным и уж, разумеется, полезным при исследовании забеременевшей особи мужского пола была разница между внешностью и потоком речи. Лицо – маска, тело – мраморная статуя, за весь период беседы не шелохнувшаяся. Глаза, строго направленные на север, то и дело встречали перед собой изучающий взгляд профессора, не отвечая на их пытливость не единым бликом взаимности. Но сколь жива речь!!! Сколько в ней экспансии. Сколько чувствования.
– Почему Вы не хотите ребенка?
– Нельзя ее.
– Ее?
– У меня дочка будет.
– Откуда Вы знаете?
– Была уже.
– Когда?
– Давно. Очень давно. В догомеровский период.
В этот миг профессору показалось, что с больным ему все стало ясно. Кто был его папой? Кто был его мамой? Пусть об этом дедушка Фрейд печется. В данном случае даже не важно, кто был бабушкой этого 42-х летнего слесаря-наладчика. Надо было уходить. Все остальное – дело лекарств и покоя. Оставалось договорить.
– Простите Петр Андреевич…
– Уважаемый доктор. – тело не издало не шелеста, голос пропитан искренностью симпатии к профессору. – Если я в первый раз не обратил внимания и снес холопье обращение "Петр Андреевич”, это не значит, что я буду и дальше потакать подобному плебейству. Меня зовут Зевсом. Если можно, именно так в медицинской карте и запишите.
– Хорошо Зевс Андреевич. Если я правильно понимаю, дочку Вы назовете Афиной Палладой.
– Совершенно верно. Только не назову, ей нельзя родиться.
– Напрасно Вы так. Афина Паллада – не самая худшая женщина… простите, Богиня. Думая, большого вреда от этого не выйдет.
– Профессор. То же простите, но не знаю, как Вас зовут.
– Владимир Вольфович.
– Владимир Вольфович. – Зевс обсосал все морфемы словосочетания, напоследок причмокнув на "ч”. – В истории, кажется, встречается такое имя. Эпоха, государство – не помню. Барщиной веет. Провокацией…
– Пожалуй…
– Так вот, Владимир Вольфович. По Вашим знаниям судя, кажется, Вы не плохо иногда думаете. Но только презерватива не сниму я. – профессор как-то огорченно посмотрел на голову больного, словно вспомнил вновь о досадном. – Я, к сожалению, другого способа сделать аборт пока не знаю.
– Будет выкидыш.
– И это слава Богу. Выкидыш на то и выкидыш, что не попадает в историю.
– И не делает истории…
– В этом и соль. Одни историю делают, других она переделывает.
– Третьи в историю влипают…
– Афина Паллада не родиться.
– Не факт…
– Даже если мне придется сбежать из клиники и скупать презервативы пачками.
– Не поможет.
– По вере каждому.
– Убийство – грех.
– Это в новой религии, а нашу эпоху убивали пачками. К тому же Вам волноваться незачем: грех на мою душу ляжет.
– Тяжело.
– Порабощенная Афиной история еще тяжелее.
– Мыльный фанатизм.
– Доведенный до иступленного упрямства.
– Почему?
– Не хочу, чтобы люди разучились радоваться…
Профессор Владимир Вольфович Тредиаковский заканчивал заполнение истории болезни новеньких. Последней лежала папка Нехорова. Не заглядывая, врач молча протянул ее санитару. Не пронаблюдав привычной записи процедур, распоряжений и лекарств, тот подозрительно нацелил исподлобья.
– А этому что?
– Улучшенное питание. Главное, фруктов побольше.
Ерзнув на стуле, Владимир Вольфович набрал воздуха для каких-то слов, но завис, как зависает компьютер после неверного нажатия клавиши. Санитар подхватил эту паузу и съежился ей в тон ожиданием. Видно было, как двигается плечо врача, слышалось выдвижение из стола ящика, хотелось знать, что нащупывает начальник.
– И это. Отдай ему это.
Владимир Вольфович почти выронил на папку с историей болезни Нехорова Зевса Андреевича маленький пакетик с надписью for safer sex…
Петр Андреевич слез с кровати, достал из-под подушки пакетик, осторожно, словно студент-наркоман с порцией гашиша, оторвал кончик, извлек силиконом обработанную ценность, и медленно, опасаясь порвать предыдущий, начал натягивать второй презерватив на голову. Два санитара, по предписанию Владимира Вольфовича дежурившие в палате, потягивали в себя, боясь задохнуться от спазм смеха: больной выглядел для них придурком на все 100. Петру Андреевичу не улыбалось. Когда спасаешь человечество – не до смеха.
Июль 1996 – Январь 1997…