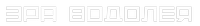– Давайте играть в догонялки.
Ты будешь жирафом, ты – стрекозой,
ты – северным сиянием, ты – ежиком...
– Ежики тихо бегают, я буду оползнем.
– Нет, оползнем будет он.
– Тогда я проиграю.
– Не проиграешь: в моих догонялках
не надо никого догонять...
– Тогда зачем бегать?
– И бегать не надо.
– Тогда зачем играть?
– И играть, в общем-то, не надо.
Из разговора в трамвае.
Кому приходилось много читать, вспомнит частый жанр и девятнадцатого, и двадцатого века: так называемые записки у изголовья, заметки в пыли, или отрывки из дневника, или записки умершего, или из мертвого дома, или на манжетах, или рукопись недогоревшая. Нет нужды в точных определениях: все и так понятно. Можно, конечно, начать что-то типа «Я нашел эти свитки на запыленном чердаке моей никогда не существовавшей тетушки, которая неожиданно скончалась...», но нужна ли эта помпа в наше время? Поэтому я начну просто: сидел я как-то на облаке близ Останкинской башни и записывал в электронной записной книжке про ежика. Но потом произошел сбой памяти в электронной записной книжке, и про ежика осталось не все.
Не правда ли, лучше? И проще. И нет этой, как ее, литературщины.
...Когда ежику сказали, что за счастье надо платить, он слегка оторопел, оторопь прошлась между колючек, далее пошла к носу и дошла бы до городу до Парижу, но тут к сказанному добавили, что платить за счастье надо счастьем, и добавили ни как-нибудь, а достаточно веско. Ежик ощупал свои карманы. Ощупанные карманы счастьем на схватки кротких ежиных пальцев не отозвались, из чего следовало, что пахнуть в ближайшее время может чем угодно – топливом дизельным, касторкой, рыбьим жиром даже, который непонятно откуда воспроизвелся в окрестностях Останкинской башни, но только не счастьем.
Слава Богу, у каждого ежика под колючками оставался амбар и сусек, по которым можно было, если что, и поскрестись. А поскербавшись как следует можно и наскрести немного благополучия, как морального, так и материального, и счастья, которое, не зависимо какого складу ежиная семья, прямо по Толстому, одно на всех как все на одного, большое в малом и, заплаченное единожды, в геометрической прогрессии может разрастаться, пока и колючки счастьем, как инеем, не покроются. Тогда ежик становится белым, и это уже не ежик получается, а почти альбинос, но все равно ежик, поскольку цвет внешний ничего не играет, а цвет внутренний и без того у нашего ежика привлекательный был. Даже в тот момент, когда лежал он в неподалекой луже, слушая мучительно верные слова о счастьеплачении...
...Иногда ежик грешил. Тогда шел он на окраину облака и нюхал одуванчики. «Что есть грех? Кто ест грех? – думал ежик, нюхамши. – И стоит ли его вообще есть? Может лучше вкусить чего-нибудь другого? «Кагора» с хлебом, к примеру?
Пока ежик думал, осень облетела одуванчики: нюхать стало нечего. А когда весна расцвела новые, на окраину ходить больше не захотелось: пока дойдешь, все лапки истреплешь.
Так ежик перестал грешить...
...Хотел было ежик заняться политикой всерьез, но обнаруживши, что в компьютерном словаре его приятеля – воробья с соседнего дерева – слово «Чубайс» есть, а слова «Немцов» нет, понял, как же был прав яблочный оглодок Эйнштейн, воскликнув однажды вместо «Эврика!» – «Все относительно!»
Впрочем, политический идеал долго еще маячил в целомудренном сознании ежика. Сначала он думал, что идеал зовут «Черномырдин». Потом подумал, что «Жириновский», потом решил, не «Явлинский» ли его имя. Когда оказалось, что настоящее его имя телевизор, ежик чуть было не запил горькую, а поскольку телевизор еще и назывался «Панасоник», горькую он чуть было не запил чем-нибудь по крепче. Как иначе можно было вытравить травму от мысли, что в российской стороне политику делает японская техника. Даже в окрестностях родного останкинского облака.
Но как Эйфелева башня – «голгофа» Мопассана – спасла Мопассана от самой себя, ежика спасла башня Останкинская, подарившая название молочному комбинату, молоко которого ежику пришлось по вкусу. Лакая коровью выжимку вешних трав, ежик вдруг поймал себя на мысли, что «Панасоник» его в пределах Останкинской башни показывает куда чище, чем «Самсунги» и «Шарпы», объединенные под солнцеликими полотнами светлого японского электропромышленного будущего. От этой пойманной мысли ему вдруг стало легко, как от пойманной в половине пятого утра «тачки», согласившейся везти на полтинник в Сходню. Пощелкав кнопками на «Панасонике» ежик удостоверился, что политика – не единственное применение телевизора, есть у него еще и бизнес, и шоу-бизнес, и программа «Новости», после чего благополучно уснул в подставленных супругой ладонях...
...Больше всего на свете ежик не любил меньше всего...
...Не любил он еще и людей, которые любили делать харакири несколько раз в день. Не любил потому, что харакири получалось у них шире хари. А Хари Рама, набив рот «Рамой», мучился целый день изжогой где-то в пролежнях бордюров Дмитровского шоссе. Один раз, исключительно под воздействием благих посулов сострадания, ежик принес Хари Раму на облако, еле дотащил, то и дело выранивая из рук, из-за чего рук на все не хватало. Но при достижении облака выяснилось, что Хари Рама оказался на самом деле Шри Ауробиндой, который больше напоминал просветленного мормона, а меньше – затуманенного Кастанеду. От такого, пусть и не очень неожиданного, совпадения ежик потускнел, но только на миг, который не всегда оказывается вечностью, после чего вернулся взглядом к статуэтке Будды, продолжая каждое утро читать взором «Отче наш», вытравленное на скрижалях ежиной души. Только отченашества ежиного никто не слышал, разве что тот самый, кто написал ему эти слова как-то утром на листочках души. Одни не слышали, потому что не слушали, другие потому что слушали, но не слышали, третьи потому, что своими отчечтениями занимались. Третьи бесили ежика меньше всех, а первые двое уже давно бесить перестали.
Перестали его бесить вообще все. Раньше бесили по долгу и по несколько штук за каждую иголку бесили. А потом перестали. Как отрезало бесенятость ежиную и стал он нежданно, но гаданно спокоен и тих, покладист и уравновешен, кроток и свят, отчего на облаке, даже по ночам, светлее становилось.
Пару раз это светлее неприятности приносило, не то, чтобы очень, но журналистам – морока. Странное свечение в районе останкинской башни корреспонденты беременной «Комсомолки», толстушки то есть, то есть пятничного выпуска газеты «Комсомольская правда», выдали за НЛО и тут же состряпали огромный материал о влиянии аномалий на молочно-кислую продукцию отчества, дым которого многим сладок и приятен, поскольку от отечества этого иной раз ничего, кроме дымы, ловить нечего. Хорошо, что свечение не видели журналисты какого-нибудь «Мегаполиса» или, чего еще печальнее, «Экспресс-газеты», поскольку в это утро гонялись за вурдалаками по кладбищу, чтобы они очередных проституток из могил не выкопали, а то журналисты эти такого бы наассоциировали – мама не горюй…
А другой раз – раз номер два, то есть – свечение приняли за выброс радиации, которая выбросилась вон в свое время в районе Чернобыльской аварии, а теперь скопилось вот в районе главного передатчика страны. Чем только не поливали облако, чем только не нейтролизовывали. Ежик, и вся его семья, и родственники, и друзья, и друзья друзей, и родственники их тоже смеялись над тупостью поливальщиков, вытравливальщиков, спасателей и прочей антикоррозийной утвари. Смеялись иной раз до слез, потому что жидкость, которой гасили радиацию, была химическая: от нее щипало глаза и текли слезы. Хорошо, что было это только однажды и не долго – ежики не успели обхохотаться. Но нахохотавшись от души с высоты ежиного полета вдруг поняли, что чайки тоже ежики и даже назвали одного из ежиков Джонатаном Ливингстоном, а другого – Ричардом Бахом. Оба тут же, не теряя времени, обнажили свои души и стали писать романы. И хотя обнаженный ежик – вылитая крыса из диггеровских кошмаров или повестей писателя Терехова, романы получались стоящие...
...Сначала ежик часто и много ждал. Потом перестал ждать и просто СТАЛ БЫТЬ. Не прошло много времени, как прошла скука и тоска. Те самые, которые, как казалось ежику очень часто, стали быть раньше желания его отца зачаться в его маме. И, почти одновременно с удалением скуки и тоски по направлению к Беренгову проливу, все вокруг ежика СТАЛО БЫТЬ. Изо дня в день. Из часа в час. Без году – неделя. Некоторые это даже замечали. Вставали, иной раз, из-за стола и говорили «СТАЛО БЫТЬ, все нормально. Поели, попили, так, СТАЛО БЫТЬ, пора и честь знать…»
Непривычно было ежику. Он даже стишок сочинил «нет счастья на земле, есть лишь покой и воля». А потом подумал и вспомнил, что эот стишок до него дяденька написал, и дописал «Покой есть отсутствие страха к окружающей жизни и уверенность в себе, воплощающая в реальность мечту о гармонии, воля – есть ощущение течения жизни в себе и непоколебимая возможность отдавать это ощущение окружающим через действие. Все это в совокупности и дает счастье».
– Гиб-гиб! – крикнул ежик и поскользнулся о полуденную прохладу. Поскользнувшись, ушиб нос, который тут же почесал, отчего все тело наполнилось теплом...
..Когда ежик бывал не в духе, он ощущал себя в теле.
Тело было колким изнутри и, понятное дело, колким снаружи. Парадокс подобной физиологии расчесал ни один ежиный затылок. Колкость наружная проявлялась для тех, кто находился вне ежика, а колкость внутренняя проявлялась ни для кого больше, кроме самого ежика.
По обоюдному согласию колючесть внутренняя отражалась прямо пропорционально колкости внешней: чем больше колол ежик свое окружение, тем колючее было его внутренностям. И наоборот. Чем больше искалывал ежик себя внутреннего, тем больше кололись его окружающие. И хотя на самом деле ежик был белым и пушистым, доколол бы он и окружающих и себя, если бы однажды не решил побриться.
Брадобрей, к которому отправился ежик с кучей денег, ибо бритье ежиково – удовольствие дорогое, пообещал, что побреет его бесплатно, если ежик ответит ему на два вопроса: «Что есть суть?» и «Кого ест форма?»
Ежик начал чесать затылок.
В детстве он думал, что суть – внутри формы. Потом думал, что форма – снаружи сути. Потом думал, что форма и суть – близнецы-братья. Кто больше был матери ценен, ежик, правда, не знал, потому что мама никогда разговоров на эту тему не заводила, а если и заводила, то чаще всего будильник, чтобы не проспать разбудить ежика.
Чуть спустя ежик подумал, что суть есть форма. Когда дело дошло до парикмахера, ежик внимательно вгляделся в зеркало и его вдруг усомнило – а не есть ли форма – суть. Когда он подумал об этом про себя, показалось, что мир делится на два. Тогда он сказал это про себя, тут же почувствовал себя и формой и сутью, после чего сразу перестал про них что-либо думать. В этот самый момент мир его понял, он понял мир, каждый оставался при своем мнении, но все были счастливы, потому что мнения у каждого были разные, форма разная, братья разные, даже матери разные, а суть – одинаковая.
Продолжая смотреть в зеркало, ежик поймал себя на мысли, что счесал все колючки, как снаружи, так и снутри, и добился желаемого результата без помощи постороннего брадобрея... Денег сэкономил!..
...Как любил ежик женщин, знает разве что шоколад, который он любил не меньше слабого пола. Но и женщины тоже любили ежика. Любили по разному и по особенному. Особенно любили когда ежик переставал быть колючим, а когда опять возвращался к колючести любить продолжали, но другим боком – исколотым прежними ежиками, снежными барсами, одинокими волками, Харлей Дэвидсами.
Кое-кто любил ежика как Марина Влади – Володю. Кое-кого и ежик любил как Марину Влади – Володя. А бывало, что ежика любили как Володю, но не Мария Влади, а пролетариат. Тогда получались революции, от которых ежику было хорошо, а почтам, телефонам и телеграфам – плохо: многочисленные телеграммы, междугородние звонки, письма. Один только «Би лайн» отдыхал, потому что «Бил хэппи». И любовь эта была – не приведи кому, Господи. Другую, в смысле, любовь не приведи, поскольку эта ежику приходилась по кайфу аж до третьего колена. Но когда проходил кайф... Впрочем, ежик умел ловить его и от других прелестей. Полетов, например.
Чем отличается истинный полет от не истинного? Истинный полет всегда начинается, а не истинный – всегда заканчивается. Во время истинного полета точно знаешь, что ты летишь. Во время не истинного – точно знаешь, что приземлишься. Истинный полет – пух, уносящийся за горизонт, полет не истинный – песок, попавший на зубы. А песок, если не сыпется, то летает, а если сыпется, то это балласт, и тоже летает, но не долго...
...Летал ежик до самозабвения. До самопознания, самосовершенства и самоотречения. И хотя не разу от себя так и не отрекся, самоотречение его в том и состояло, что самоотречением он сам себя самообретал. И, самообретая себя каждый новый самоотреченный полет, летал самостоятельно и самостийно. Самостильно и самолично. Лично он был не против полетать еще и самовольно, но даже всех перечисленных полетов для него было достаточно, поэтому летал ежик самодостаточно...
...Иногда ежика называли медвежонком, но медвежат ежиками не называли, ежик это знал по шкуре медвежьей, которая за многие годы дарвинской эволюции колючками так и не обрясла, и ежику делалось обидно за медвежат, поэтому он запротестовал и потребовал в качестве опротестования называть себя если и медвежонком, то ежиным, а если ежиком, то медвежатником. Бурым, но не обуревшим...
...потому что на самом деле ежик был Тигром. И был он. И остается он моей самой родной сказкой...
Москва, 1998 год.