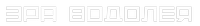– За гордую…
– Розовую…
– Россию.
Фома выпил и поморщился. Фома всегда морщился, когда пил. На этот раз мы пили горилку, самую настоящую, украинскую. Василий припрятал несколько бутылей, когда выяснил, что его жена то же налилась этим ненавистным, страшным, зеленым оттенком. Упрятал бутыли в рюкзаке рыбачьем, а поутру, когда она спала, деранул из под самой из-под Полтавы в наши края. В город Пушкино, то есть. Вон он, Василий, сейчас под табуреткой спит. То есть, голова его под табуреткой спит, а он сам, радостный и беззастенчивый, наслаждается, небось, всеми своими лейкоцитами, что не попал в зеленые объятия своей благоверной. Подмосковный город Пушкино – один из самых розовых очагов нашей Первопристольной. Потому что… и это наша беда. Потеря наша основная! Не смотря на то, что вся Россия оставалась розовой и лишь кое-где – Калининград, Сочи, Сургут – значились зеленые пятна, Москва была не только самым зеленым городом России, но и одним из самых зеленых мест на карте всего мира. Зеленее, чем Китай, что ближе к Казахстану. Зеленее Москвы оставались только крупные мегаполисы и некоторые территории, которые хоть и были не заселены почти вовсе никем, но на карте, которую мы смотрели с Фомой через спутник, были зеленее мегаполисов.
– Получается, это еще одна тайна, – философствовал Василий, когда еще не под табуреткой был. – Получается, что вся эта зелень гремучая – одна сплошная тайна. Я же баб, когда они и белые были, побаивался, а теперь зелеными и подавно пойми их. Баба, она же как яхта – можно всю жизнь в довольстве проплавать, а можно и потонуть.
– Я когда про зеленых баб услышал, подумал, что это очередная байка. Ну, типа, того, что Президент страны думает и заботится о ее жителях. Даже когда фотки в газетах печатать стали и в Интернете появились, я не верил. Потом одна диктор на телевиденье новости говорила и прямо на глазах позеленела…
– Вот-вот, и я видел. В красненькой кофточке…
– В красненькой. Кофточка красненькая, а дикторша – зелененькая. Я все равно подумал, что это розыгрыш, монтаж какой-нибудь. А тут сижу двумя днями позже дома, моя красавица на работе, и вдруг звонок в дверь. Думаю, это Маринка моя вернулась. Открываю – и правда, Маринка. Стоит, с ноги на ногу, как кобылица, переминается, лицо рукой прикрывает. Нехорошее у меня предчувствие появилось. А она руку как уберет, да как заорет. Стоит! Зеленью сияет! И орет…
– Я где-то читал, что они как зелеными становятся, почти всегда кричать начинают.
– А я читал, что американец один специальный прибор изобрел и замеры сделал, что чем женщина зеленее, тем она сильнее кричит.
– Да перепутал ты все. Мы вместе эту статью читали. Американец говорит, что зелень ее зависит от того, сколько она в себе всякой гадости носит – ненависти, комплексов, неудовлетворенности. И вовсе не обязательно, что если зеленая, значит орет. Она может вообще не орать, или ныть, или плакать каждый день… Что вот, мол, я теперь зеленая, а ты – белый.
– Да, ты правильно говоришь… Мне один друг рассказывал, что у него другой друг есть, у которого жена друга на этой почве вообще с катушек съехала… Ну, тронулась, в смысле… Она никогда на него не кричала, все для него делала, он что захочет, она ему делает, и еду, и секс, и на рыбалку, если он с друзьями, удочки собирает и водку сама положит. Они так много лет прожили, а когда она позеленела, он уж очень, этот друг того друга, который у моего друга, волновался, что она кричать будет. А она кричать не стала, напротив, еще более ласковая стала, какая-то смиренная, только время от времени начала грустить, что он ее бросит, потому что она зеленая, а он – белый. Сидит вечером, нет, нет, да и скажет, что он ее бросит. И с каждым вечером все чаще и чаще. Заботится о нем, а сама ноет, что вот он ее из-за зелени оставит. Он уж и так, и эдак ее уговаривал, и утешал, и успокаивал, и клялся, а она все одно – я – зеленая, ты – белый. И в слезы. Про зелень свою говорит – плачет. Про белизну его говорит – плачет.
– И что же?
– Ну, что же? Чокнулась в итоге. Он ее в психушку сдал, а сам живет наверное, с такой же зеленой, только не такой зацикленной.
– Напросилась, получается.
– А я как-то в одном журнале приметы народные про зеленых девиц читал. Если ее там мужик долго не удовлетворял, то она светло зеленая становится. Если она свекровь не любит, то только части зелеными могут быть. Если детей не любит или аборты делала, то уж очень зеленой может быть. Проститутка если, то там зеленая, то сям… Ну, и так далее…
– Самые зеленые это те, кто мужьям изменял и аборты делал.
– Да не то говоришь. Самые зеленые, это которые мужей убили. А уж потом те, кто им изменял и аборты делал.
– А я слышал, что их зелень зависит от питания…
– Да чушь все это. При чем здесь питание. Тут дело в психике…
– Вот и я думаю, что в психике.
– А я думаю, мне кажется, что они зелеными стали потому, что мужиков победить не смогли. Был у них в ДНК специальный код заложен, что к двадцатому веку все мужики будут в рабстве или вообще умрут. А мы не умерли, вот их код разрушился…
– Да ничего там не разрушилось. На самом деле, они всегда зелеными были…
– Как это?
– Ну, понимаешь, если негр с белой, например, того, спарятся, у них может быть вполне даже белый ребенок. Но потом, в следующем поколении, обязательно негр родиться. Черный, то есть… Ученые это как-то по-ученому называют. И белый этот, он как бы белый, но на самом деле – негр. Альбинос – не альбинос, но белый негр. Так я думаю, они, бабы наши, давно-давно все зеленые были, а потом получилось вот это самое ученое слово с ними, только не на одно поколение, а на тысячи лет. То есть они как бы все эти годы были белые, но все равно – зеленые.
– Маскировались, значит…
– Ну, не сами, а природа их так…
– А я читал где-то, что Господь изначально нас зелеными сделал, как ящериц и лягушек. Только что-то там у него ошибка вышла и мы получились – кто белый, кто черный, кто желтый. А сейчас он ошибку свою исправляет и сделает всех зелеными, как мыслил изначально. Вот родит зеленая баба зеленого мальчишку, и появится первый зеленый мужчина. Так через несколько лет все зеленые станут.
– Ничего не получится… Я по телевизору видел, у них мальчики все белые рождаются, а девочки то белые, то зеленые. У мальчиков, получается, у нас, мужиков, этот код зеленый отсутствует.
– Вот ведь до чего докатились – некоторые, как бы это, женщины уже сразу зелеными рождаются…
– Да, времена пошли. А я помню времена, когда каждая зеленая – как диковина…
– Ничего подобного. Дети у них у всех белые рождаются. Потому, как, психическое это. Девка с годами становится зеленой, всякой гадости внутри себя накопит, вот и зеленеет. А девочки маленькие, они как бы невинные. Беленькие такие, даже розовые несколько, рождаются.
– Розовые, как Россия на карте…
– Вот, я об этом и говорю.
– А у меня сосед не испугался. С зеленой жить стал. Говорят, долго жил.
– Да ты что? Никто с зеленой долго жить не сможет. Зеленая, она же потому и зеленая, что как бы женщина, но уже в мужчине не нуждается и его как бы, сама в том не признаваясь, из своей жизни выталкивает, вытесняет… Может кто и рад бы жить с зеленой, по любви, там, или из-за секса, но только это как веник в море – все равно волна на песок выкинет.
– Ты вот почему сбежал?
– Испугался. Меня как внутри скальпелем вырезали, когда я свою зеленую поцеловал. Холод в душе, страх, и одиночество…
– То-то и оно… Эти зеленые… су…
– НЕ выражайся…
– Существа… Существа эти зеленые, они словно твою душу выпивают и человек, мужчина, в сухостой превращается. Чахнет. В мгновение ока старится. И умирает.
– А мне кажется, они все – зеленые. Только у одних вот проявилось, а у других хоть и не проявилось, но, по сути, они то же зеленые и с ними чахнешь…
– Ну, не скажи… Рядом с некоторыми расцветаешь, растешь…
– Растешь, растешь, пока в салат не срежут…
Наступила пауза. Каждый думал о своем, но грустном. Как тяжело лишится дома. Как тяжело быть салатом. Как тяжело в современном мире найти свою светло зелененькую… А еще лучше, розовенькую или беленькую…
В нашей засаде нас было семеро – Фома, Василий, Вовка, Афанасий, Виталик….. и я. А еще с нами был баран. Самый настоящий баран, которых режут для того, чтобы сделать шашлыки. И тот самый, у которого подруга – баранина. Немного уже в годах был наш баран, серый такой, кое-где проплешины белые значились. Рога крепкие, копыта крепки, сам не хилого сложения. Сам он из Тверской области прибежал. Я никогда не слышал, чтобы баран живой мог столько пробежать и не окочуриться, на дворе не июнь, травы в октябре мало. Он же не человек какой-нибудь сообразительный, он же баран самый настоящий. Хоть и получается, что баран то же сообразительный оказался, но все равно не человек. А жалко его по-человечески. Но уж очень барану жить хотелось. Вот он и сбежал подобру-поздорову от зазеленевшей баранины. Зазеленела то его баранина еще в мае, когда листва зеленела и всякие там злаки наливались. Как нам сам баран рассказывал, уж очень его баранина слиться с природой решила, вот и слилась. Да настолько слилась, что как вдруг позеленеет вся, как вдруг зардеется зеленым этим свечением, так ему поплохело от этого света, что баран даже очередной корм не дожевал, лишь взглянул в тоской на ворота в сарае, да и деру.
– Бегу я, значит, – баран эту историю уже раз двести нам рассказал, настолько она ему запала. – А перед глазами моя бараниха так и стоит. Стоит и блеет. Блеет и зеленеет. Сначала глаза зеленые стали. Потом рога такие светло зеленые. Чуть-чуть зеленые. А потом вдруг вся сразу резко как станет зеленая. Как позеленеет. Вмиг озеленела вся. Слышать ничего не слышит. Видеть не видит. Зеленится и блеет. И как на меня кинется. Я с перепугу чуть не подавился. Выплюнул траву и бежать без оглядки. Бегу я, значит, а перед глазами моя бараниха так и стоит. Стоит и блеет… Блеет и зеленеет. Сначала глаза зеленые стали…
Теперь баран долго не остановится. Раз шестьдесят прокрутит эту историю в своем бараньем мозгу вслух. Сначала мы бесились. Пытались перебить его. И словом пытались перебить. И палкой. А он все свое – отдохнет-отдохнет и по новой
– Бегу я, значит…
Барану, ему как-то легче. Вот «Афанасий» только один раз рассказал историю позеленения своей благоверной, и тут же падучая у него случилась. Он как глаза закатил, как пеной изошелся, так больше в себя и не приходил. Вон, под другой табуреткой головой отдыхает. Афанасий, он же не баран какой, он – пиво. А пиво – вещество нежное. Его главное не тормошить, не бултыхать и лишний раз в него не капать. Оно же бродить начинает, пенится, пузыриться. Вот Афанасий и не может в себя вернуться – истекся весь от волнения. Лежит под белой табуреткой, отдыхает.
Мы тут проанализировали. В большинстве случаев они зелеными одинаковым сценарием становятся – сначала глаза, потом какая-то симпатичная часть тела – ушки, рожки. У Юры, между прочим, этой частью тела оказались соски. Ну, не у самого Юры, а у его пассии. Вот он лег с какой-то бабой в постель. Раздетые они уже были, поддали малость, как полагается. Он уже в ней свои дела вытворял. У нее глаза закрыты, стонет, вот он глаза-то и не заметил. И уже стонет она как полагается, чтобы ему испуститься всему в ее нутро, вот уже и ему становится почти что прекрасно, как вдруг соски у нее позеленеют, словно листочки на леденцах «Рондо». И он даже испугаться толком не успел, испуститься даже не успел в нутро ее, а она глаза как откроет. Он и протрезвел вмиг, бежать было собрался, а тут началось самое важное. Он даже как закричит от удовольствия, а она как всем телом позеленеет. Он испускается и кричит, она стонет и зеленеет. Он кричит и испускается. Она зеленеет и стонет. А баба толстенная была. Кило под сто. Жирная, зеленая. Я бы в такую и белую не испустился, а Юре нравятся. Юра любит, чтобы большая и вся моя. Но вся моя и не зеленая, это радость. А зеленая, так пусть не моя. В общем, едва он испустился, нырть в трусы, и бежать. Вон в трусах, продрогший весь, сидит, велосипед обнимает. У мальчишки отобрал, когда из подъезда выбежал. Из самого Подольска, через полрадиуса МКАДа на велосипеде в трусах через октябрь ехал. Замерз. Велосипед обнимает. Ничего. Сейчас отогреем. Вовка уже побежал в Супермаркет за двенадцатой литровкой…
2004 – 2007