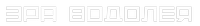жил добрый, но застенчивый лесник,
и тихий дом своей благой купели
топил он тем, чем весь народ привык:
дрова, поленья, веточки, и мох…
Он от наивности своей бы сдох,
не понимая, что любовь людская,
бывает, жалит чище всяких пчел.
Однажды в дебрях старого сарая
он скрипку чистую под простыней нашел.
Не ведая по темноте душевной
куда и как она ему нужна,
хотел он вместе с веткой и поленом
ее в огонь подбросить не спеша…
Уж было отворил лесник заслонку,
уж было, кочергой черпнул золу;
под пальцем нежно, словно перепелка,
скользнула скрипка «Я тебя люблю».
Чуть слышно, чуть ранимо, чуть упруго,
почти что воздуха дыхание весны,
лесник решил, что это – просто шутка
и помешал в огне печи золы.
Лежала скрипка тихо и прилежно,
ждала той участи, что Небом суждена,
и вдруг струна, безропотно и нежно
произнесла: «Мой Бог, я для тебя.
Твоя я. И ни капли нет сомненья.
Лишь жажда звуки для тебя дарить.
Коль хочешь ты, я поборю волненье
и дам тебе души своей излить
печали и мятежные надежды.
Играй. Моя струна – твой томный пыл.
И если сможешь, сберегу ту нежность,
которую ты в струны источил».
Лесник смотрел на скрипку как на липу,
что трепетна и стойка, будто стыд,
и думал, что Господь его молитву
услышал: он теперь один
уж никогда не будет. Вытер руки.
И взял диковину, почти что не дыша:
большие, крепкие, мужские руки
смущали скрипку.
«Как же хороша», – лесник подумал
и струны коснулся.
Потом еще. Еще. Еще. Еще.
Он мог бы в этом звуке захлебнуться.
Он думал, что скрипач как приговор
рождается и рвется в нем наружу.
Ему казалось, он – тот виртуоз,
который, чуть усталый и простужен,
парит в сиянии столичных звезд.
Ему казалось, нет игры чудесней,
и скрипки нет чудесней, и мечты,
вот так, прожив вдвоем единой песней
за небосводом вдаль Небес уйти.
Играл лесник, и каждый звук и ноту
переживал душой, и сердцем, и умом.
Он в эту песню святость и заботу
вложил, и думал, что своей игрой
наполнит мир вокруг.
Лесник был счастлив.
И думал, скрипка счастлива вполне.
Она же еле слышно прошептала:
«Мне больно. Ты играешь НЕ…
Не правильно.
Не верно.
Не по нотам.
Не так, как До играли. До тебя.
Не виртуозно. Не вполне свободно.
Не так. Не эдак. Я почти устала
от твоих терзаний и объятий.
Устала я. И не хочу страдать.
А то, что душу звуки подчиняли
твоим сердцебиеньям, мне плевать.
Я так устала. Ты играть не можешь.
Вот те, другие, так они могли
коснуться струн, почти что осторожно.
Меня их пальцы страхом берегли.
Играла я, когда лишь я хотела.
И как хотела. А когда жара,
так я от восхищенных мыслей млела.
И ты, наивный, думал, что твоя
игра понравится мне?» Скрипка хохотала.
Рыдал Лесник. И тихо, не спеша
затворка печки душу открывала
пусть дикого, но Вечного огня…
Здесь я позволю сей рассказ закончить.
Точнее, не закончить, а прервать.
Вам думается, скрипке той же ночью
пришлось средь чурбачков в огне пылать?
Да, люди злы и не хотят увидеть,
того, что скрыто за твореньем дня.
Он скрипку мог бы в тот же миг обидеть,
и выжечь боль средь хаоса костра.
Но люди.
Люди. Люди. Люди. Люди.
Чьи скрипки рвут тугую плоть ветров.
Лесник был чист, хотя немного грубый,
и слабо различал созвучья нот.
Но он был светел, потому свободен,
от ненависти, страха и тоски.
Он взвинчен был той скрипкой, на изводе
была душа его, его мечты
разбили скрипкины капризы и сравненья.
Он тихо плакал. Он почти не жил.
Вы даже в лучшем своем праздничном сонете
не воспоете, как же он любил
своей подруги тонкие изгибы
и женского хотенья эгоизм.
Как он любил, узнать вы не способны.
Как он страдал, лишь ведал старый мох.
А скрипка? Не волнуйтесь.
Ей свободу
он подарил и средь святых болот
он каждый вечер ходит… и на ложках
играет скрипок сложный оборот.
Ах, если бы не скрипкины признанья…
он был бы до сих пор ее тапер.
Да, да, тапер, а не скрипач унылый,
болезненный, худой, и вечно злой.
Он был тапер, и в этом его сила.
Та сила, что болезненный укор
у скрипки вызывала каждый вечер,
что он на ней играл. Он думал, что любим.
Она свои лишь струны уважала.
И счастлива была, что не за ним
отважно бродит по лесным опушкам,
а прыгает с вагона в самолет
(туда-обратно, слово побрякушка)
и думает, что мелочный народ
в восторге от ее прелестной формы.
От звуков тонких. Что ее любовь
народная согреет и наполнит.
Но с каждым разом, только простыня,
ее накроет, гордая мимоза
с печалью вспоминает у костра
охапку дров, поленья, мох, заслонку,
и тихий, страшный некогда, огонь,
ее, который, слово бы ребенка
поит до этих самых пор
и греет ее душу. Скрипка плачет.
И рвется звук гордячества внутри.
А люди думают, что это что-то значит,
и хлопают в ладоши раза три.
А люди думают, что это звук свирели,
ведь птиц они не слышали давно.
Но знают вечно пасмурные ели,
что песни петь той скрипке суждено
лишь в тех руках, что делали ей больно,
что заставляли ныть, стонать, рыдать,
удел ее не голосить на воле,
а лесника от гибели спасать.
Спасать и петь его скупые песни,
которых нет чудесней на земле.
Чрез песни те она б могла воскреснуть,
а не искать погибели в толпе.